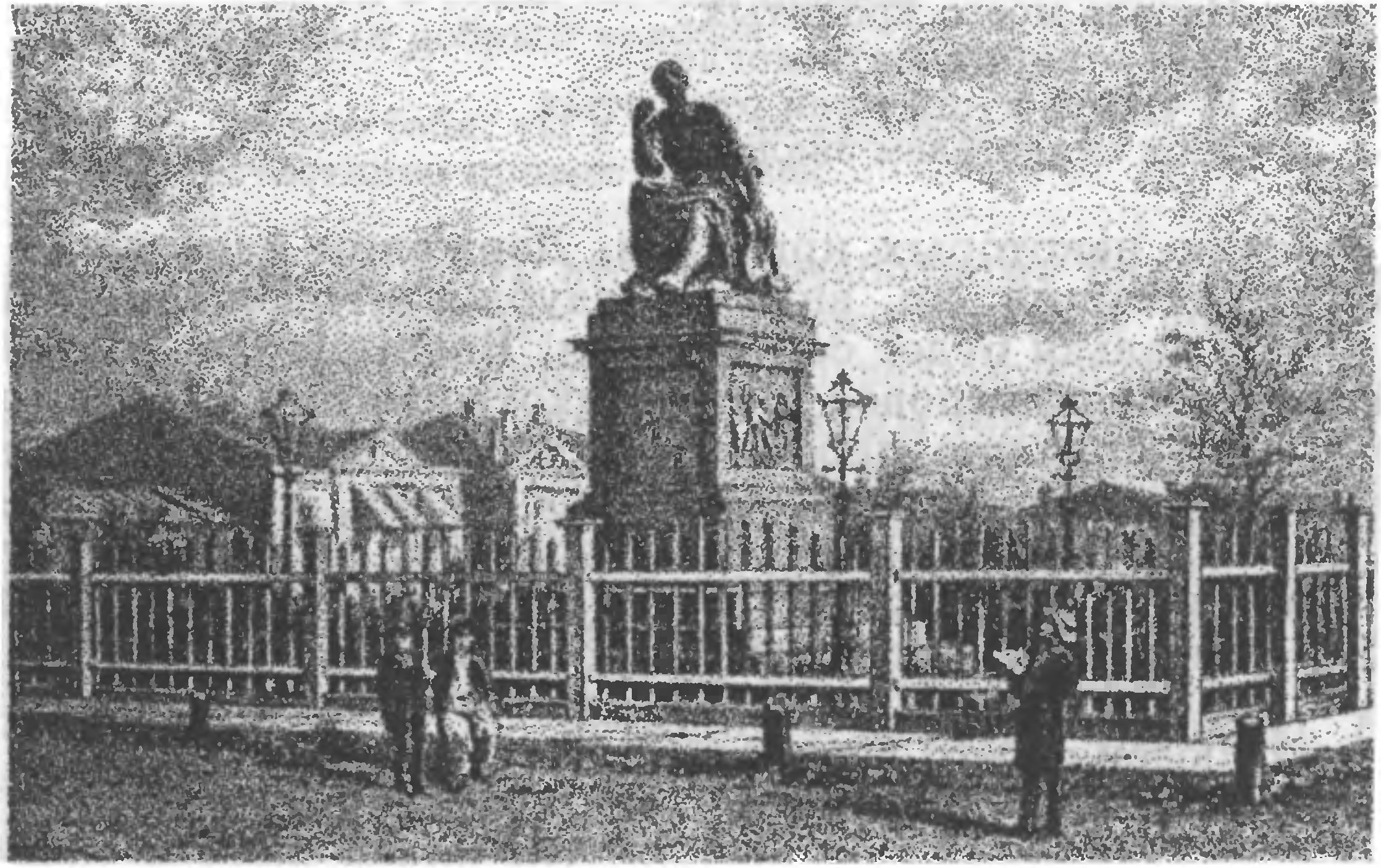|
На правах рекламы: |
16. ЗаключениеНам остается собрать разбросанные в труде нашем черты личности и таланта Державина, чтобы представить, по возможности, цельный образ его как человека, общественного деятеля и поэта. Если принять в соображение время, когда он родился, и обстоятельства, посреди которых развивался, то нельзя не признать его замечательным и необыкновенным явлением в истории русского общества. После глубокого нравственного падения в той растлевающей среде, где ему пришлось прожить большую часть молодости, он внезапно восстает из грязи порока с твердым намерением вступить на путь правды и чести, и этот важный шаг делается началом всех последующих успехов его. Припоминая его семейные, служебные и общественные отношения, всякий беспристрастный наблюдатель отдаст ему справедливость как доброму сыну и родственнику, как человеколюбивому начальнику и помещику, вообще как христианину, всегда расположенному делать добро; причем излишняя доверчивость и необыкновенное добродушие часто бывали причиною, что сам он становился жертвой обмана. К государственной службе Державин имел несомненные способности. Об этом достаточно свидетельствуют быстрота и легкость, с какими он, перейдя с военного поприща на гражданское, усвоил себе основательное знакомство с законами и делопроизводством. Но для вполне успешной деятельности в этой сфере ему недоставало многого; прежде всего недоставало ему спокойствия духа, самообладания и терпения; не было у него также благоразумного уменья уживаться с людьми, применяться к обстоятельствам, к характеру, взглядам и поведению других, быть ловким и гибким, хотя бы для вернейшего достижения своих целей. Оттого-то он ни в одной должности не мог утвердиться прочно и отовсюду принужден был удаляться вследствие ссор с поставленными над ним властями или с сослуживцами. Но эти ссоры происходили не от строптивости в его характере, как думала Екатерина II, и не от сварливости, а от крайне строгого, даже педантического уважения к закону и долгу, от смелой откровенности и неуклонной прямоты в выражении своих убеждений и применении к ним своего образа действий; наконец, от необыкновенного горячего и нетерпеливого нрава его. Главною причиною всех его столкновений было стремление во что бы ни стало доставить победу правде или тому, что он считал справедливым. Если бы он более дорожил внешними выгодами, то, конечно, сумел бы удержаться по крайней мере в милости Екатерины II и императора Александра, к которым был близок. Ему ставят в упрек, что он, желая поправить свое положение при дворе, два раза употреблял на то свой талант, но при этом забывают, что к бывшему питомцу новоучрежденной провинциальной гимназии времен Елизаветы Петровны нельзя прилагать мерки нынешних требований. По той же причине несправедливо было бы строго относиться к Державину и за то, что он, естественно придавая большую цену чинам и вообще служебным отличиям, хлопотал о получении наград, когда считал себя обойденным в сравнении со своими сослуживцами. По полученному им воспитанию надо еще удивляться, какой высокой степени развития он успел достигнуть благодаря плодотворной школе жизни, своим дарованиям, любознательности и обширной начитанности. Конечно, выражавшаяся в его делах и сочинениях благородная человечность была отчасти плодом того духа, который проникал вообще учреждения и все царствование Екатерины II, но необходимое условие к тому лежало в собственной природе его. За время тамбовского губернаторства особенную честь приносят Державину заботы его о народном образовании: во всех своих распоряжениях по этой части он показал себя в полном смысле просвещенным правителем. Немногие государственные люди знали Россию, как Державин, изучивший ее лицом к лицу от Казани до Белоруссии, от низовьев Волги до Северного океана, от крестьянской хаты и солдатской казармы до царских чертогов; немногие так хорошо понимали ее исторические судьбы и призвание. Сам отличаясь редкою энергиею и деятельностью, он вел неутомимую борьбу против некоторых коренных недостатков русского человека, — против его слабости воли и беспечности, против равнодушного отношения его к закону и легкости, с какою он дает употреблять себя орудием враждебных козней. В служебной деятельности своей Державин всегда руководился более опытом жизни, практикою, нежели теориею, часто основанною на непригодных для России началах; он не дорожил канцелярскими формальностями и бюрократическою рутиной, любил быстроту производства и гласность, во все вносил дух жизни и правды. Эта последняя черта составляет существенное отличие и поэзии его. В Державине жила кипучая сила, ознаменовавшаяся в его литературном творчестве между прочим чрезвычайною производительностью. Это один из самых плодовитых русских писателей. Вот первая трудность полного изучения и верной оценки Державина. Другая причина, почему критике нелегко установить свой взгляд на него, заключается в разнородности содержания его сочинений и неравенстве их достоинств. Превосходное смешано у него не только с посредственным, но и с дурным. Естественно, что в суждении о таком писателе должно входить много субъективного: каждый судит о нем по тем впечатлениям, которые оказываются сильнее; один более поражается красотами его поэзии, другой ее недостатками, и на этом основании в приговорах о нем преобладает то похвала, то порицание. Не от того ли происходит и различие между взглядом на Державина современников его и большинства нынешних его читателей? Не этим ли объясняется и то противоречие, на которое мы указали в разновременных суждениях о нем Пушкина? Старики видели в нем одно хорошее; внуки склонны замечать преимущественно дурное. И это очень понятно: справедливость требует прямо допустить, что поэзия Державина представляет много такого, что несогласно с понятиями и вкусом нашего времени. В сущности, ода как выражение высшего лиризма составляет совершенно законный и всем временам свойственный род поэзии. Но естественно, что характер и форма ее не могут не видоизменяться по требованиям каждой эпохи. Оду 18-го столетия обыкновенно представляют себе хвалебною, льстивою по содержанию и напыщенною по форме. Но этими чертами обозначается, собственно, только весьма распространенное в 18-м веке злоупотребление оды, а не самая ода. С тех пор литература вместе с жизнью постоянно стремилась к упрощению форм, отвергая все изысканное и принужденное, всякую ложь и притворство. Свобода и простота во всех проявлениях общественной жизни, такова была одна из главных задач позднейшего времени. Под условием этих двух качеств и ода могла продолжать свое существование, хотя уже и отказавшись от своего громкого имени. Еще и под пером Пушкина она иногда воскресала, но не иначе, как в чертах простой и мужественной красоты, как, напр., в его стихотворениях «Наполеон», «Бородинская годовщина», «Клеветникам России». Но первый шаг к изменению у нас характера оды 18-го столетия, введенной Ломоносовым, а вместе и первый шаг к переходу русской поэзии в новый период был сделан Державиным. В «Фелице» и в примыкающих к ней стихотворениях он создал новый род оды, который можно назвать русской народной одой. Но, найдя в ней настоящую сферу для своего поэтического призвания, Державин не мог вполне отречься и от торжественной лирики, в которой с не меньшим блеском являлся его талант к изображению великих дел и помыслов человека или картин природы. Жаль только, что богатству воображения и высокому настроению духа не вполне соответствовало у него уменье владеть языком и художественное чувство. Конечно, и торжественные оды его, по оригинальности замысла и достоинству подробностей, не похожи на другие стихотворения этого рода; но нельзя отрицать, что рядом с первоклассными красотами поэзии у него встречается риторический пафос и иногда, после поразительного возвышения, поэт вдруг падает, а в то же время и язык его местами становится в высшей степени небрежным и неправильным. И вот эти-то недостатки мешают многим справедливо оценивать Державина как поэта. Неровность языка составляет в нем одно из загадочных на первый взгляд явлений. С одной стороны, кажется странным, как человек, не знающий основательно ни грамматики, ни орфографии, часто достигает такой пластичности выражения, такого плавного и легкого стиха, такой ловкой и звучной поэтической фразы, какие свойственны только мастеру дела. С другой стороны, нас поражает его тяжелая, запутанная, неуклюжая проза; наконец, рядом с совершенным неведением теории слова у него является удивительное богатство материала изо всех сфер языка: из церковно-славянского, из русского книжного, из простонародного и даже из областных наречий. Таким образом, он представляет блистательное исключение из высказанного Сумароковым правила:
Но противоречия, замечаемые в стихотворном языке Державина, объясняются тем, что он, обладая изумительным природным чутьем, вообще отличающим талант, мог удачно побеждать трудности версификации только тогда, когда был окрылен вдохновением, но, никогда не вникав в разнообразные формы и законы языка, не умел совладать с ним в обыкновенном, как бы будничном настроении духа. Точно так же он вовсе не имел понятия о законах художественной стройности произведения, и оттого-то проистекает господствующее в его одах отсутствие выдержанности. Эти два существенные недостатка его стихотворений, неровность языка и слабость художественного элемента, всегда останутся тенями в его поэтической славе. Естественно, что после совершенства, достигнутого позднейшими поэтами не только в форме, но и в художественной разработке содержания, недостатки поэзии Державина должны сильно чувствоваться в настоящее время. Но наш взгляд на писателя другой эпохи никогда не будет верен, если мы, увлекаясь только требованиями настоящего, не будем уметь стать твердо на почву исторической критики. Посмотрим теперь, чем Державин был для своих современников. Конечно, тогдашнее общество сознавало живую его связь с собою: иначе оно не могло бы так горячо сочувствовать его поэзии. Потомкам трудно представить себе неимоверную славу, какою Державин пользовался в свое время. После Ломоносова в русской литературе только и было два писателя, к которым так чутко и восторженно прислушивалось общество: Державин и Пушкин. Всякое новое произведение их переписывалось сотнями рук, быстро разносилось в отдаленнейшие концы России и выучивалось наизусть; часто даже и напечатанные стихи их продолжали распространяться в списках. Державин еще и при императоре Александре I сохранял прежнее обаяние. Когда в 1804 году он переслал в Москву известному графу А.И. Мусину-Пушкину оттиск своей только что отпечатанной «Колесницы», тот писал к нему: «Напрасно не поставили вы своего имени; все те, которые у меня оную читали, единогласно сказали, что это вашего пера. Копий столько писец мой писал по требованиям желающих, что, думаю, он знает ее теперь наизусть». В современных поэту периодических изданиях и рукописных сборниках встречается множество стихов, которых предметом он, его талант, его громкая слава, наконец, его достоинства и заслуги: справедливость, любовь к добру и к человечеству, преследование лжи и порока. Поэтому любопытно исследовать, что именно в такой степени влекло к нему современников, почему они так понимали и ценили его. Необходимо всмотреться, действовали ли на них вечные, не стареющие элементы поэзии или только случайные интересы минуты, теряющие цену для потомства. Когда началась литературная известность Державина, прошло уже около двадцати лет с воцарения Екатерины: уже давно славился ее «Наказ», учреждены были банки и воспитательные дома, присоединена Белоруссия, заключен мир в Кучук-Кайнарджи, устраивались наместничества. Государыня успела уже поразить воображение своих подданных блеском славных дел и внушить им доверие к ее мудрости и величию; уже все сознавали кроткий и благотворный дух ее царствования. Много было попыток воздать ей стихами заслуженную хвалу; но все эти напыщенные оды, не имевшие никакого отношения к жизни, оставались незамеченными. Тогда-то раздался голос поэта, который облек в живое, игривое слово то, что многие чувствовали, но не умели выразить. В «Фелице» воплотилась гениальная Екатерина не только со всем своим величием, но и со всею своей глубокою человечностью, со своими либеральными воззрениями и целями, со своею снисходительной приветливостью, со своими литературными занятиями в тиши царственного кабинета. Притом она явилась тут не одна, но во всем блестящем своем окружении, в среде своих пышных и прихотливых вельмож. В описании ее и их образа жизни, в тоне обращения поэта к сильным мира, обитающим на высотах, считавшихся недосягаемыми, было столько нового и смелого, что образованное общество с восторгом приветствовало появление необыкновенного таланта. Но «Фелица» имела еще и другое, чисто литературное значение. Незадолго перед тем начали слышаться выходки против тяжелых, бездушных од, которые наводняли литературу; уже ощущалась потребность чего-нибудь более живого, и «Фелица» явилась неожиданным ответом на эту потребность. Шуточно-сатирический тон этой оды, простой язык ее и легкий, естественный стих были так поразительны, что произведенное ею впечатление может быть сравнено разве только с тем, какое ода Ломоносова «На взятие Хотина» произвела на его современников своим новым размером и складом. Но самым существенным условием успеха «Фелицы» была та искренность, которую в ней почувствовали, и это свойство, без которого немыслимо полное торжество таланта, сделалось одною из отличительных принадлежностей поэзии Державина. Без искреннего чувства он не мог воодушевляться; тогда ни один писатель не становился так бессилен, как Державин. Одних житейских побуждений было недостаточно, чтобы дать крылья его таланту; оды «Изображение Фелицы» и «На восшествие на престол императора Павла», хотя и предпринятые им по внешнему побуждению, удались ему потому, что он действительно чувствовал все в них высказанное. Напротив, когда императрица приблизила его к себе, сделав его своим секретарем, когда для него была бы особенно выгодна роль придворного певца, тем более что сама Екатерина не раз вызывала его писать стихи вроде «Фелицы», он не в состоянии был создать ничего подобного, потому что, как сам говорит, приближение ко двору, где он увидел перед собой игру человеческих страстей, охладило его и он уже «почти ничего не мог написать горячим, чистым сердцем в похвалу государыни». Придворным стихотворцем Державин никогда не был и не мог быть. Правда, что дух современной ему литературы и самые обстоятельства сильно влекли его в сферу подобной деятельности; но тому противились, с одной стороны, сила и самобытность его таланта, а с другой — энергический его характер. Хвалебное стихотворство, каким оно является при разных европейских дворах прошлого столетия, отличается холодною высокопарностью и бездушною сухостью. Поэзия Державина остается чуждою этого характера, и если некоторые из его од по направлению действительно подходят под этот разряд стихотворства, то по рассеянным в них красотам они носят, однако, печать истинно поэтических созданий. Следует заметить, что в отношении почти ко всем фаворитам Екатерины Державин хранил молчание. Даже Потемкина при жизни его он хвалил мало; в Платоне Зубове он похвалил его музыкальный талант и приветствовал этого вельможу за ласковый прием в его доме. Валериан Зубов внушил ему стихи своим несчастьем в Польше и подвигом в Персии: Державин искренно уважал его как человека. О других любимцах нет и помину в его стихах. Нельзя также забыть, что Суворова и Валериана Зубова он продолжал воспевать в то время, когда они были в немилости, и в какую же пору? в царствование императора Павла. Главная ода Державина в честь Потемкина написана была по смерти его. «Водопадом» он воплотил в величественный и вечный образ свое глубоко поэтическое понимание этого необыкновенного человека, который еще далеко не разъяснен историей, но, конечно, недаром сохранил до конца полную доверенность Екатерины и оставался во всех обстоятельствах ее советником — «решитель дум в войне и мире, могущ, хотя и не в порфире». В этой удивительной оде Державин проявил во всей полноте именно ту сторону своего духа, в которой главным образом заключалась тайна его могущественного действия на современников. Певцом величия назвал его Гоголь, и это слово чрезвычайно метко. Таким является Державин в двух отношениях: как выразитель великих общечеловеческих идей и как певец величия России и русского народа. Если обратимся к общим направлениям 18-го столетия, то найдем, что важная дума о человеке, о его отношении к высшему миру и положении в здешнем составляла везде одну из господствующих тем литературы и искусства. Это настроение проникло и к нам; но тогда как у других русских писателей оно порождало только скучное прозаическое нравоучение, оно же у Державина становилось основою сильного и глубокого лиризма. Даже и из лириков других наций не было ни одного, который бы такими резкими чертами, в таких потрясающих картинах умел выставлять противоположность между роскошью земных наслаждений и их непрочностью, и вместе так осязательно изображать высоту духовной нашей природы. Нас не должно поражать, что Державин в действительной жизни сам не всегда удовлетворяет требованиям высшего нравственного закона. В нем живут как бы два человека: один — в минуты творчества, с величавым, недосягаемым идеалом человеческого достоинства, другой — в треволнениях житейской суеты, со всеми страстями человеческой природы. Эту двойственность поэта прекрасно выразил Пушкин, сознававший ее в самом себе; и к Державину, столько же как к нему самому, применяется сказанное им о поэте, поглощаемом прозою жизни:
Зная историю детства и юности Державина, мы недоумеваем, как мог развиться такой высокий идеал в человеке, который не получил почти никакого воспитания и провел лучший возраст в самом дурном обществе, — сперва рядовым, в низшей полковой сфере, а потом офицером, в омуте разврата, в праздности, карточной игре и разгуле всякого рода. Но здесь мы находим и разгадку явления. Из гибельной борьбы страстей эта сильная натура вышла с торжеством благодаря глубоко запечатленным в молодой душе воспоминаниям детства и опытам жизни. Дорого купленное нравственное перерождение отразилось в поэзии Державина религиозным ее направлением в последующее время. Самым решительным выражением этого направления была его ода «Успокоенное неверие», которая, по собственным его словам, первая обратила на него внимание любителей литературы, вероятно, переработанная им через несколько лет после первого ее зарождения. Таким образом, и в области духовной лирики, в которой венцом его славы сделалась впоследствии ода «Бог», Державин собственным опытом выстрадал свое творчество, и здесь мы опять встречаемся с того искренностью, на которую уже было указано как на одно из существенных свойств его духа, с тем чистосердечием, о котором сам он говорит в своем «Признании». Об оде «Бог» в наше время судили различно. Со своей стороны, замечу только, что причины ее беспримерного успеха должно искать в силе ее лирического полета, глубине религиозного убеждения и величии начертанных в ней образов. Сравнив оду «Бог» с лучшими произведениями других европейских литератур в том же роде, мы будем невольно поражены ее превосходством со стороны быстроты движения, высоты лиризма и поражающей картинности. В отношении к его духовной поэзии вообще можно прибавить, что в ней, по замечанию покойного митрополита Киевского Арсения, обнаруживается большое знание церковного богословия. Потрясая своих современников как защитник Божией правды на земле Державин не менее возбуждал их сочувствие пламенным изображением величия судеб России, ее исполинской силы и обширности, ее грозного торжества над всеми врагами. То была пора гордого юношеского самосознания русского общества, и Державин сделался органом этого сознания, или, вернее, самочувствия. Как глубоко и твердо верит он в несокрушимость России, в высокое назначение русского народа, и особенно, — что весьма замечательно, — в призвание его дать мир Европе (Афету):
Так восклицает поэт во время второй турецкой войны, в 1790 году.
Речь идет о Турции. Тогдашним фазисом восточного вопроса был греческий проект, любимая мечта Потемкина:
Для таланта Державина было особенным счастьем, что пора полного его развития совпала с царствованием Екатерины. В этот героический век русской истории события и люди своими исполинскими размерами именно соответствовали смелости этой оригинальной фантазии, размаху этой широкой, своенравной кисти. В тогдашней России на всех поприщах деятельности встречаются лица, которые, при всем разнообразии своих физиономий, представляют одну черту общего сходства: это — их резкие особенности, дающие им как бы типический характер. Орловы, Потемкин, Суворов, Безбородко и другие, — все это чрезвычайно оригинальные, своенравно обозначившиеся личности, в которых слабости так же резки, как и достоинства: во всех них много поразительного, странного, загадочного для нас, людей 19-го века. Все эти своеобразные лица, вместе с громадными событиями, в которых они участвовали, прошли сквозь призму поэзии Державина, и мысль, не раз уже выраженная, что в созданиях его живет целая эпопея чудной эпохи, совершенно справедлива. Если для таланта Державина было счастьем жить в век Екатерины, то, с другой стороны, и время это могло гордиться появлением поэта, призванного увековечить его в образах. Но не одни герои встают у него, как живые: он сохранил нам очертания и многих лиц совершенно другого характера. Возьмем хоть графа А.С. Строганова и Льва Нарышкина: как выразительны у него их фигуры, особенно дышащее веселостью изображение последнего, без которого картина двора Екатерины была бы неполна.
И в противоположность этому беззаботному баловню счастья выступает И.И. Шувалов, этот остаток другого времени, этот идеал просвещенного и благодушного вельможи-покровителя, о котором Державин всегда говорит с таким теплым чувством, как о своем благодетеле с детства. С равным уважением за гражданские подвиги, хотя и с меньшим сочувствием, изображает он Безбородку. И над всеми этими лицами сподвижников или приближенных Екатерины господствует собственный ее образ, самый разительный и величавый из всех не по одному месту, которое она занимает, но по истинному величию и гению. Никто не понимал ее так высоко, никто не изображал ее с таким одушевлением, с такою поэтическою истиною и наглядностью, как Державин. Те создания его, которые рисуют Екатерину, лучше истории сохранят для потомства прекраснейшие стороны ее существа и деятельности. Как понимал он ее, можно между прочим видеть из следующих строф «Изображения Фелицын. Поэт проникает в самые сокровенные мысли монархини и слагает «молитву Екатерины Великой», как назвал это место Карамзин:
По мнению некоторых критиков, Державин изображал только внешние события; но, вникнув глубже в содержание его поэзии, с этим нельзя будет согласиться. Внешние события, действительно, доставляли повод к его стихотворениям и служили им рамкою; но достаточно проследить ход его мыслей в одах, посвященных Фелице, Шувалову и Строганову, в «Вельможе», в «Монументе милосердия», чтобы убедиться, что самое глубокое сочувствие питал он к гражданской доблести, к духу царствования Екатерины, к возникшим с нею либеральным и гуманным идеям, которых первым изъяснителем он и явился как один из передовых людей своего времени. Замечательно, что Державин был свидетелем и певцом двух из величайших эпох славы России. Он видел дела и торжество Екатерины, видел ужасы и усмирение пугачевщины, славил подвиги Румянцева и Суворова, пел елизаветинского министра Шувалова, — и на его же веку совершилось нашествие и падение Наполеона, прославился Александр со своими полководцами и молодыми министрами. Какие два различные века, — один со своим грозным концом, другой со своим светлым началом, — встретились на глазах Державина! При воцарении Александра талант поэта еще не утратил всей своей силы, и в его приветствиях молодому царю слышались величавые отголоски лиры, славившей Фелицу. Достойно Екатерины обрисован им и внук ее, которого Державин уже при рождении его в поэтическом предчувствии нарек человеком на троне, и которого роль как примирителя Европы была им предначертана уже при самом начале войн с Наполеоном. Но любопытно, что из всех героев Александра типически представлен им только один Платов; кисть его, начертав исполинские образы екатерининских орлов, уже не чувствовала силы для новых созданий этого рода. Сам сознавая это, Державин в 1812-м году смотрел на Жуковского как на своего преемника. И действительно, перед «певцом в стане русских воинов» автор «Лиро-эпического гимна на прогнание французов» являлся как бы окаменелым организмом отжившего мира. Устарелый певец Фелицы не мог переродиться, не мог усвоить себе новых, более свободных и изящных форм, в которые постепенно облекалась поэзия. Но так живуча была эта лира, что и посреди слабевших ее тонов иногда раздавались звуки, отзывавшиеся прежнею силой и величием. Живой памятник другого века, старец встречал с недоверием явления новой жизни и рядом с одой, посвященной громким событиям царствования Александра, является у него басня, род поэзии, который он разрабатывал уже и прежде, но полюбил особенно теперь, находя в нем удобную форму для протеста против того, что видел вокруг себя. Памятник Державину в Казани Таким образом, разнородные явления двух великих эпох отразились различно в поэзии Державина, и не без основания некоторые писатели давно называли его поэтом-летописцем своего времени. Теперь, когда литературное наследие его сделалось известным во всем своем объеме, историческая сторона его стихотворений выдается еще полнее и разительнее. Обставленные собственными его объяснениями, они становятся живою хроникой эпохи. При совершенном почти отсутствии политического элемента в тогдашних наших периодических листах, при малочисленности у нас мемуаров и сравнительной бедности анекдотической истории сочинения Державина, богатые применениями к обстоятельствам и лицам, приобретают еще не довольно оцененное значение. В этом отношении особенного внимания заслуживают его посмертные мелочи, как-то: эпиграммы, надписи и т. п., которые уже им самим приготовлены были к печати. Из них мы в первый раз почерпаем разные историко-литературные подробности, видим отношения между тогдашними деятелями, узнаем тогдашние взгляды на события и лица, знакомимся короче и с теми влияниями, под которыми находился сам поэт. С этой стороны его сочинения всегда будут представлять обильный запас исторических данных для ближайшего изучения его времени. Перед нами проходит в его стихах целая жизнь даровитого русского писателя, тысячами нитей связанная с жизнью всей эпохи. И посреди всех лиц, ярко начертанных его кистью, с особенною выпуклостью выступает его собственной образ, эта характерная физиономия сына России 18-го века. Державин неоспоримо принадлежит к разряду тех типических лиц царствования Екатерины, на которые мы указывали; к нему самому, как поэту, с полным правом можно отнести слова, сказанные им в «Водопаде» Потемкину:
Оставляя за ним все его слабости и темные стороны, мы все-таки должны признать в нем необыкновенного человека, который, силою природных способностей и энергической воли возвысившись из ничтожества, достиг влияния, почестей и славы. Как ни полон он противоречий, мы не можем не видеть в нем в высшей степени замечательного коренного русского по воспитанию, быту, уму и нраву. Несмотря на раннее, случайное знакомство его с немецким языком, ни его молодость, ни дальнейшая жизнь не могли привить к нему ничего иностранного. Он родился и вырос в провинции, в приволжских низовых губерниях; обстановка, среди которой он развивался, была довольно сходна с тою, которую в наше время так искусно и верно изобразил нам покойный автор «Семейной хроники». Во всех сочинениях Державина явственно проглядывает его глубокое знакомство с жизнью и языком народа, его давнее слияние с Церковью, его совершенное знание славянской Библии и богослужебных песен. Первоначальная основа воспитания была у него общая с Ломоносовым; но как расходятся затем пути их развития! Классическое образование едва коснулось Державина скудными уроками латыни в казанской гимназии; ему не удалось побывать в чужих краях. Довольно обширные исторические и литературные знания, которыми он нас нередко удивляет в своих сочинениях, были плодом собственных его трудов и большой начитанности. В России, сравнительно с другими странами богатой самоучками, Державин является одним из самых блестящих явлений этого рода. Вследствие того образование его представляло, конечно, много пробелов, но с тем вместе он легче мог сохранить полную самостоятельность и сделаться оригинальным. У русских не было другого писателя, который бы представлял такие отличительные черты творчества. Своенравное воображение его давно уже оценено; но в его уме было одно свойство, на которое, кажется, еще не обращалось довольно внимания: это какая-то насмешливость, или, как ее тогда называли, издевка, которая иногда прорывалась у него посреди самого торжественного настроения, и за которую Екатерина в душе не любила его. Следуя современным литературным обычаям, Державин хвалил; но посреди похвалы он готов был как будто невзначай разразиться («брякнуть вслух») каким-нибудь смелым словом истины. Этим Державин особенно гордился как выражением своего правдолюбия. По ходу всего его развития резкие противоположности были неизбежны в существе его, и с исканием милости сильных, как чертою тогдашних нравов, в нем действительно соединялась прямота, выработанная собственным его характером, — источник множества невзгод, постигших его в жизни. Итак, чисто русская натура, выразившаяся в поэзии Державина, хотя со всеми недостатками века, его ясный сатирический ум, его пылкий нрав, его здравый смысл, чуждый всякой болезненной сентиментальности и холодной отвлеченности, наконец, его изумительно могучее и яркое воображение, — вот что составляет сущность его таланта и всегда останется достойным изучения. Все это придало поэзии Державина оригинальный характер. Справедливо было замечено, что он из пределов какой-то беспочвенной области витиеватых возгласов свел поэзию в мир осязательной действительности и жизни. Ломоносовские земные боги еще остались по-прежнему на сцене, но они явились теперь с людскими страстями и заговорили языком человеческим. Удаление Державина от школы, его влечение к непосредственной жизни, его практический смысл были первым началом всего возрождения русской литературы. Отсюда уже ясно, как односторонне мнение, будто он не имел никакого влияния на дальнейшие судьбы нашей поэзии. Правда, что он не создал школы: хотя в подражателях ему и не было недостатка, но так как они не имели его таланта, то их произведения, нося на себе чуждый и искусственный отпечаток, не могли занять места в истории литературы. Но Державин не только подал пример сближения поэзии с жизнью: он же первый, в свое время, стал вводить в русскую поэзию народность, которой начатки мы встречаем только у Ломоносова. Народность явилась у Державина частью в характере его воззрений на природу, человека, общество, церковь, в духе его сатиры и шутки, частью в изображении им разных сторон русского быта, наприм., в «Кружке», в «Фелице», в оде «На счастье», в «Похвале сельской жизни», в послании к Платову. Народность выразилась также в языке Державина. Несмотря на частую неточность и даже неправильность его оборотов, на встречающееся нередко небрежное обращение его с формами языка, речь его замечательна, во-первых, своим поэтическим благородством, во-вторых, чисто русским складом, обилием выражений и слов, почерпнутых из простонародного быта, наконец, уместным употреблением пословиц и поговорок и заимствованиями из русской сказочной и песенной литературы. Но что еще более обещает прочности его славе, это тот великий нравственный и общественный идеал, который он постоянно стремится выставлять пред своими согражданами. Его ода «Властителям и судьям», цикл од, изображающих Фелицу, «Вельможа», ода «На возвращение графа Валериана Зубова» (бывшего тогда в опале) и некоторые другие поражали современников своею смелостью. В оде «Властителям и судьям» он именем совести и Бога взывает ко всем земным властям вообще. В «Фелице» уяснил он самой Екатерине идеал, к которому она стремилась. Как ей, так и двум ее преемникам он, в виде похвал, часто давал советы, выражал общественные желания, начертывал как бы программу достойной монарха деятельности. В «Вельможе» он противополагает могущественным в то время Зубову и Самойлову бывшего долго в немилости Румянцева и ставит его всем власть имеющим в пример скромной доблести. Но трудно было бы исчислить все те оды, в которых он, по словам Гоголя, усиливается начертать образ крепкого мужа правды, закаленного в деле жизни и борьбе, и этому идеалу умеет он всегда придать черты того величия, о котором мы уже говорили. Что нам нужды до того, что сам он на деле не вполне осуществил этот идеал? Довольно, что в минуты творчества он служил великим идеям человечества с таким жаром, какого мы не замечаем ни у кого из других поэтов. Силою своего пламенного воображения, своей здравой мысли и резкого слова он переносит нас в тот высший нравственный мир, где умолкают страсти, где мы невольно сознаем ничтожество всего житейского и преклоняемся пред духовным величием. Таково содержание главных од Державина: несмотря ни на какие изменения времен, ни на какие успехи просвещения и языка, образы, им начертанные, сохранят навсегда свою яркость, и до тех пор пока идеи Бога, бессмертия души, правды, закона и долга будут жить не пустыми звуками на языке русского народа, до тех пор имя Державина как общественного деятеля и поэта не утратит в потомстве своего значения.
|
| © «Г.Р. Державин — творчество поэта» 2004—2026 Публикация материалов со сноской на источник. |
На главную | О проекте | Контакты |