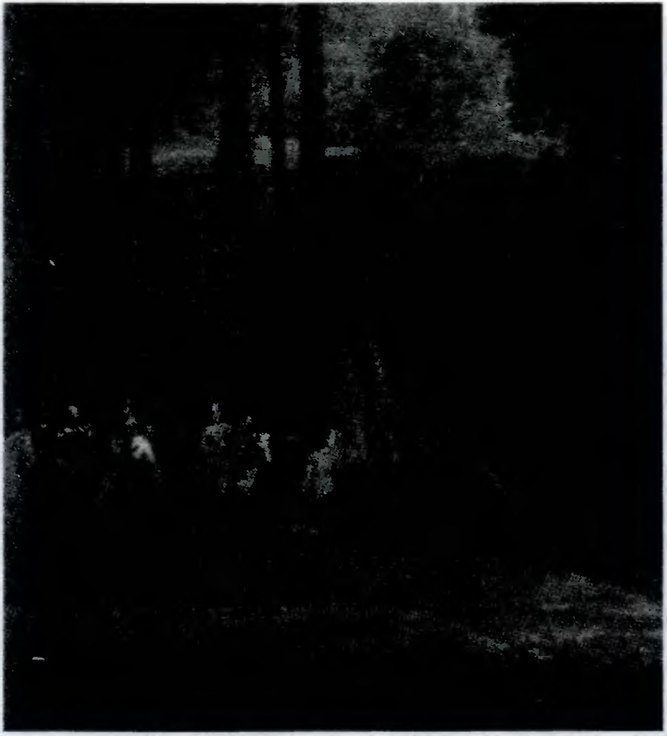|
|
Взгляд 5: «Сталь жесткая, глядим, как мягкий, алый воск»Основным требованием, предъявляемым культурой «живописного» к пейзажу, творимому и/или созерцаемому, было, как мы знаем, полное или частичное его соответствие палитре и композиции «идеальных» пейзажей Клода Лоррена. Вспомним одно из самых известных полотен великого живописца — «Пейзаж со свадьбой Ревекки и Исаака» (1648). Первое впечатление от картины — та самая многофигурная умиротворенность, поэтический staffage, о котором писали теоретики «живописного». Но если мы вглядимся в нее внимательнее, то заметим, как слева, среди кудрявых деревьев и нежнозеленых кустов, движутся маленькие фигурки вооруженных солдат. Осторожное перемещение отряда не изменяет ни композиционного равновесия полотна, ни общего пасторального настроения: пастухи танцуют, ручьи журчат, река приводит в движение мельничное колесо, — но мы вдруг ощущаем, как нарушается царящая в мире гармония, как неслышными шагами входит в нее облаченная в доспехи тревога. Нечто подобное происходит и с «картиной жизни Званской».
Самый отъезд на Званку весной 1807 года был омрачен невниманием государя к стратегическим идеям Державина. В своих «Записках» поэт вспоминал:
Главным событием осени 1806 года стал указ Александра от 30 ноября о создании народного ополчения — «временной милиции», в которую «поступали мещане, однодворцы, казенные и помещичьи крестьяне не старше 50 и не моложе 17-ти лет», набираемые из тридцати одной российской губернии2. И.И. Дмитриев, в 1806 году направленный из Москвы «на помощь» генерал-губернаторам «седьмой области, составленной из костромской, вологодской, нижегородской, казанской и вятской губерний», писал:
Именно об этой «спасительной и необходимой» мере упоминает Державин в тридцать пятой строфе «Жизни Званской», едва заметно переходя от описания мирного производства к описанию производства военного. «Ода частной жизни» внезапно поворачивает от вневременного континуума идиллии — к судьбам государства4: Иль как на лен, на шелк цвет, пестрота и лоск, Сталь жесткая, глядим, как мягкий, алый воск Если царящая на Званке гармония нарушается внешними обстоятельствами — войной с Наполеоном, о которой ни на секунду не забывает Державин, то «включение» этой темы в стихотворении подготавливается опосредованно, на стилистическом уровне: к ней подводит нас самый аналитизм «машинных строф», нагнетание метонимий и инверсий. «Как только мы покидаем уютный мир виньетки, — пишет Барт, — и обращаемся к иллюстрациям и образам аналитического свойства, спокойствие покидает нас. Гармония окружающего мира подвергается насилию» (Barthes 1989, 15). Всеохватное и вездесущее энциклопедическое знание будоражит мир, а любое разъятие на части неизбежно таит в себе агрессию, способную неожиданно выплеснуться наружу. В «Жизни Званской» переход от умиротворения целого к тревоге детали получает тем самым «двойную» наглядность. В тридцать пятой строфе достигает своего апогея фигуративность державинского стиля и его тяга к «перестановке мест слагаемых»: «Сталь жесткая, глядим, как мягкий, алый воск / Куется в бердыши милицы». Алый цвет стали передается здесь воску, который бывает мягким, но никогда — красным. При помощи «взаимозаражения» слов эпитетами, а также благодаря смысловой и синтаксической амбивалентности слова «как» (союз / союзное слово: «сталь как воск» и/или «глядим, как сталь куется») Державин создает образ самого процесса плавки. То, что званский locus amoenus дает первую трещину в строках, посвященных кузнечному производству, также не случайно. Дело здесь не только в стали, которой предстоит стать «бердышами милицы», но и в самом пространстве кузницы, в его культурной мифологии и иконографии, восходящей к изображениям кузницы Вулкана в «Энеиде» Вергилия и воплощениям этой темы в живописи и графике последующих веков. Если мы обратимся к художественной традиции, современной и во многом созвучной Державину, то вспомним «Кузницу, увиденную снаружи» (Iron Forge viewed from without (1773)) — одно из самых известных полотен уже не раз упоминавшегося нами Джозефа Райта из Дерби — художника, впервые обратившегося к научному эксперименту и технологическому процессу как к объекту художественной рефлексии (Egerton 1990, 556; Klingender 1947, 60—61; Paulson 1975, 184—203).
Хотя знакомство Державина с полотнами Райта из Дерби представляется весьма вероятным7, видеть в Кузнице прямой изобразительный источник одного из фрагментов «картины Званской жизни» было бы натяжкой. В то же время «новое возвышенное» Райта, вырастающее из соположения, а затем и смешения индустриальной, инженерной и научной образности с традициями и иконографией религиозной живописи, глубоко созвучно основам державинской эстетики. «И сельски ратники как, царства став щитом»Сельская кузница — обязательный элемент аграрного быта — не предполагает изготовления в ее стенах оружия8. Библейский призыв «перековать мечи на орала» в державинских строках оборачивается вспять. Вид раскаленной стали, которой предстоит стать «белым» — холодным — оружием, заставляет поэта окончательно отвлечься от созерцания домашнего производства и рисует его «умственному взору» аллегорическую картину, на одну строфу прерывающую перечисление реалистических сцен усадебного быта: И сельски ратники как, царства став щитом, К цепи предшествующих картин эту последнюю присоединяет все то же переходящее из строфы в строфу союзное слово «как», не делающее различий между разными типами взгляда, приводящее «умное зрение» и непосредственное наблюдение к общему знаменателю синтаксической конструкции («смотрим, как краски берутся с полей, как сталь куется и как сельски ратники бегут»). С идущими следом, и снова реалистическими, сценами охоты ее связывает предлог «иль»: этим предлогом вводятся шесть предыдущих и четыре последующих строфы; его отсутствие воспринимается как значимое, маркированное. В фокусе «батальной сцены» — метоним, отягощенный метафорическим значением: «сельские ратники-рыцари — щит государства». В отличие от «Марииной руки», и метонимический, и метафорический компоненты здесь скорее понятийного, чем образного происхождения10. К смежной «метонимической метафоре» («грудь, рогатая штыками») Державин обращается в стихотворении «Крестьянский праздник», предваряющем «Жизнь Званскую» в рукописной тетради и являющемся его стилистически сниженным и метрически упрощенным вариантом11: Но вы не трусы ведь, ребята, Изобразительным источником «рогатой штыками груди» могла явиться традиция представления воинства в иконе (ср., например, знаменитую «Битву новгородцев с суздальцами» — хотя здесь ратники «рогаты», естественно, не штыками, но пиками и копьями)13. Этот прием, как и многие другие, был заимствован авторами «народных картинок» конца XVIII — середины XIX века (в большинстве батальных лубков — от «Краткого описания осады Очакова» до листов времен Крымской войны — войско изображено в виде единого цветового пятна и/или геометрического блока — или несколько раз повторенного контура, окруженного бесчисленными штыками). Лубочная стихия близка аляповатому колориту и залихватским ямбам «Крестьянского праздника», но дело здесь, конечно, не только в ней (ср. в строфе 55 «Жизни Званской»: «Грудь Россов утвердил, как стену, он в отпор / Темиру новому под Пультуском, Прейсш-Лау; / Младых вождей расцвел победами там взор, / А скрыл орла седого славу»).
Устойчивая парная метонимия «грудь росса — его щит / росс — твердокаменная грудь (= щит (стена)) отечества» входит в образный репертуар патриотической лирики Державина еще в 1780-е годы. «Геройска грудь» появляется среди атрибутов и характеристик «твердого и верного росса», перечисляемых поэтом в «Осени во время осады Очакова» (1788): Мужайся, твердый росс и верный, Тот же топос положен Державиным в основу аллегорического изображения объединенной Европы в оде «На взятие Измаила» (1791): Доколь Европа просвещенна И здесь же: О росс! О род великодушный! Неслучайно именно это тройное восклицание-обращение («О Росс! о род великодушный! / О твердокаменная грудь!»), цементированное монументальной метонимией (из восьми иктов второй строки шесть приходятся на слово «твердокаменная»), было избрано Сергеем Ширинским-Шихматовым в качестве эпитета к поэме «Пожарский, Минин, Гермоген или Спасенная Россия» (1807). Шихматов не ограничивается упоминанием «твердокаменной груди» в эпиграфе, но возвращается к этому топосу во второй песне поэмы, вспоминая о героических событиях двухсотлетней давности: В сию свирепую годину Как уже отмечалось, ориентация Шихматова на Державина не сводилась к топике: сам модус представления исторической реальности в его поэме — внезапная и зачастую необъяснимая, лихорадочная смена картин — восходит, по крайней мере отчасти, к череде «явлений — исчезновений» державинского «Фонаря». И у Карамзина, и у Шихматова, и у самого Державина рассматриваемого периода словесный, риторический образ «грудь россов» обретает большую наглядность, из устойчивого словосочетания превращается почти в картинку16. «Грудь россов» не только сама по себе является метонимией, но и находится в метонимических отношениях с целым пластом державинской образности17. В эмблему оказываются свернуты многие сюжеты, так или иначе связанные с патриотической темой в его поэзии, — от признанных вершин, од времен русско-турецкой войны, до «Гимна лиро-эпического на прогнание французов из отечества», написанного пятью годами позже. Мир, состоящий из метонимий и синекдох, разрастается почти безгранично. Метонимический взгляд на предмет уводит наблюдателя далеко за пределы видимого. Реконструирующее зрение есть странное сочетание близорукости с дальнозоркостью. Так, образ сельских ратников, рисующийся мысленному взору заглянувшего в сельскую кузницу поэта, перебрасывает очередной мост из Званки-Сабинума в Званку Новгородской губернии Российской империи образца 1807 года. Впрочем, пока что поэт со спутниками поворачивает обратно в пейзаж, — с тем чтобы, двенадцать строф спустя, вернуться, уже наедине с самим собой, к размышлениям историческим. Примечания1. Приведем лишь одно из предложений, содержавшихся в державинском «Мнении об обороне империи на случай покушений Бонапарта» (1807): «Всех Французов, которые не примут подданство Российской державе, выслать из империи, под угрожением смертною казнию оставшимся, которые изобличены будут в изменнической переписке» (Державин VII, 486). Меры, предпринятые в итоге правительством, были созвучны настроениям «русского Горация». Вот как описывает ситуацию 1806—1807 годов И.И. Дмитриев: «Между тем губернаторам, поступившим в областное управление, предписано было иметь неослабное внимание на все то, что действует на общее мнение, воспламеняет дух народный любовию к отечеству и может устремить усердие граждан к прямой и существенной цели сего вооружения <...>. В то же время данным наставлением Святейшему Синоду, предоставлено ему "пещись о устремлении благочестивого негодования сынов православной церкви противу врага, ополчающегося на попрание оной"» (Дмитриев 1895 (1974), 90—91). 2. Материалы по истории народной милиции см.: Русский Архив 1895, VIII, 401—420. 3. В названном числе ратников (шестьсот двенадцать тысяч) исследователи склонны видеть аллюзию к 1612 году, положившему конец событиям Смутного времени и служившему постоянным историческим и идеологическим фоном для событий начала девятнадцатого века (см., например: Файбисович 2005, 205). 4. В «Объяснениях на сочинения» Державин так расшифровывает две последние строки строфы: «В сие время, по повелению императора Александра, была набираема милиция для защищения границ от Французов, для которой ковали бердыши и всякое белое оружие». Ср. также восьмой пункт державинского «Мнения об обороне»: «Дело будет полководца, чтобы через легкие войска разсеянными напусками непрестанно тревожить французскую артиллерию и приводить оную разными движениями в ослабление, поелику как слышно, что она сильнее нашей» (Державин VII, 486). 5. Ср. описание кузницы Вулкана в «Ботаническом Саду» Эразма Дарвина, созданное под явным влиянием «Кузниц» Райта: «Quick whirls the wheel, the ponderous hammer falls, / Loud anvils ring amid the trembling walls, / Strokes follow strokes, the sparkling ingot shines, / Flows the red slag, the lengthening bar refines» (Darwin 1799, 203) («Быстро вертится колесо, тяжкий молот опускается, / Громко звенят наковальни среди дрожащих стен, / Удары следуют за ударом, блестит сверкающий слиток [металла. — Т.С.] / Течет красная лава, и удлиняющийся брусок становится все тоньше»). 6. Огромный обеденный сервиз, известный как «Сервиз с зеленой лягушкой» (The Green Frog Service), был изготовлен Веджвудом — родоначальником знаменитого фарфорового производства — специально для русской императрицы. Каждый из составлявших его 972 предметов — тарелок, супниц, блюд, чашек — был украшен одним из «наиболее живописных видов Англии» (the most picturesque views of England) и увенчан изображением маленькой, растопырившей лапы зеленой лягушки. Пейзаж оборачивался натюрмортом, и взору тех, кому приходилось присутствовать на обедах в Чесменском дворце (бывал там и Державин), представала фарфоровая, зеленоватая Англия, целиком расположившаяся на белом острове обеденного стола (Bentley 1774; Raeburn, Voronikhina 1995). 7. В уже не раз цитированном нами диссертационном исследовании Ю. Торияма делается интересное предположение о влиянии композиционного и цветового решения «Извержения Везувия» (1774) на державинское «Взятие Измаила» (1790) (Торияма 2004). 8. Здесь имеет смысл вспомнить еще об одной изобразительной параллели: к 1801 году — году нарушения Наполеоном мирного соглашения с Англией — относится одно из самых известных полотен Филиппа де Лутербурга, создателя Эйдофусикона, театра оптических иллюзий, открытого в 1781 году в Лондоне и представлявшего публике картины рассвета и заката, шторма и штиля на море, плывущих по небу облаков и других «эфемерных явлений» (McCalman 2005) — «Coalbrookdale by Night» — апокалиптическое видение кузниц, в которых в это время спешно производилось оружие для войны с Францией. Своей живописной стилистикой Лутербург наследовал Райту из Дерби, но в картине 1801 года подспудная, невысказанная тревога «ночных полотен» Райта перерастает в ужас, а производственная сцена воспринимается как военная (Daniels 1999, 60). 9. Идеологические установки эпохи замечательно передают слова все того же Василия Левшина, собирателя сказок и автора пространных хозяйственных руководств. В сатирическом памфлете «Послание Русского к Французолюбцам. Вместо подарка на новый 1807 год» Левшин пишет: «Француз проворен, гибок, остроумен; к сему много поспособствует двусмысленной Французский язык. Пользуясь сею способностию своего языка и наглостию, Француз, входящий в дом, выпускает как бы из мешка, острые и двузначащие слова, шерады, каламбуры, и подобные мелочи, вскоре соделывается шутом беседы, или домашним шутом, к которому делают привычку <...> по-моему французский шут в доме опаснее скорпиона: от ужаления его не всегда излечиться можно <...>. Честной француз к прочим его землякам математически содержится как 1 к 100» (Левшин 1807, 20). 10. Присущая оде нераздельность представимого и непредставимого, о которой шла речь выше, подчеркивается общим риторическим устройством картин, заключенных в строфах 33—36: все они основаны на приеме сужения, наиболее характерным проявлением которого на уровне стилистики является метонимия. (О композиционном приеме «сужения», о метонимии и синекдохе как его стилистических вариантах см.: Гаспаров 1997, 33—38.) 11. В «Крестьянском празднике» бурлескному снижению подвергаются основные одические топосы (начиная с формульного обращения к Музе, «дорийскую лиру» которой призван заменить деревенский кобас: «Пусть, Муза! нас хоть осуждают, / Но ты днесь в кобас побренчи / И всшед на холм высокий, званский, / Прогаркни праздник сей крестьянский...» (Державин III, 398)). 12. В примечаниях Грота к стихотворению читаем: «в то время набиралось ополчение. Манифестом 30 ноября 1806 г. поведено было составить ополчение, названное внутреннею временною милицией в 612 000 ратников, взятых из 31-й губернии. В милицию поступали мещане, однодворцы, казенные и помещичьи крестьяне не старше 50 и не моложе 17-ти лет» (Державин III, 399). 13. Подробный анализ такого рода изображений см. у Б.А. Успенского: «Идеографические приемы изображения в иконе, фреске и особенно миниатюре могут доходить до крайней формализации. Например, множественность той или иной фигуры или того или иного предмета может выражаться путем повторения одной какой-то детали на заднем плане. Так, войско передается в виде одной или двух воинских фигур, за которыми изображается целая совокупность шлемов; город передается в виде изображения храма, за которым представлено много маковок церквей (аналогичный прием имеем в египетском искусстве: ср. многократное повторение контура одной фигуры при изображении толпы)», — пишет исследователь (Успенский 1995, 237). 14. Курсив здесь и далее мой. — Т.С. 15. Ср. использование той же метонимии и «вопросно-ответную» форму отрывистых ямбов в «Песни воинов» Карамзина, написанной после неудачной битвы при Аустерлице 2 декабря 1805 года и пользовавшейся огромной популярностью: «Готов кровопролитный бой! / Отведай сил и счастья с нами; / Сломи грудь грудью, ряд рядами; / Ступай: увидим, кто герой! / Пощады нет: тебя накажем, / Или мы все на месте ляжем. / Что жизнь для побежденных? — стыд! / Кто в плен дается? — Боязливый! / Сей острый меч, / Сей медный щит / У нас в руках, пока мы живы» (курсив мой. — Т.С.; Карамзин 1966, 298—299), — и в вымученной и неуклюжей оде самого Державина «На мир 1807 года, государыням императрицам»: «О русска грудь неколебима, / Твердейшия горы стена! / Скорей ты ляжешь трупом зрима, / Чем будешь кем побеждена! / Не раз в огнях, в громах, средь бою / В крови тонувши ты своей, / Примеры подала собою, / Что Россов в мире нет храбрей» (Державин II, 662). 16. Подобная «реализация» телесных метафор и метонимий может быть связана, среди прочего, с оформлением на рубеже XVIII—XIX веков представления о «политическом теле» (body politic) русской нации и государства (Живов 2008, 114). 17. Группировка образов по текстам той или иной тематики становится особенно наглядной при обращении к изданию Николая Полевого, построенному по тематическому принципу (самый большой его отдел составляет «поэтическая летопись» (Державин 1845)).
|
| © «Г.Р. Державин — творчество поэта» 2004—2025 Публикация материалов со сноской на источник. |
На главную | О проекте | Контакты |